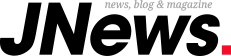30 лет подряд муж каждую пятницу уезжал к больной матери. После его похорон узнала — матери не было…
— Только не забудь, Вера, я вечером уеду к маме, как всегда.
— Конечно, Саша. Передай ей, что я скоро загляну…
Так начиналась почти каждая пятница на протяжении тридцати лет. Вера давно перестала задавать вопросы. Просто собирала мужу сумку, клала чистые носки, пирог, который он «мама обожает», и махала ему из окна. Он всегда ехал на старенькой «Ниве», всегда возвращался к воскресному ужину. Усталый, но будто просветлённый.
Когда Александр умер, всё было как во сне. Инсульт. Молниеносно. Вера осталась в пустом доме, не понимая, как теперь жить. На третьи сутки после похорон она вдруг осознала — а как же мама? Никто не сообщил ей о смерти сына. Никто не пришёл на похороны из той деревни, куда он якобы ездил. Вера села в машину.
Деревня оказалась давно брошенной. Покосившиеся дома, заросшие тропинки. Она с трудом нашла старожила — деда Платона.
— Простите, здесь жила Александра Ларионова? Мать моего мужа.
Дед всмотрелся:
— Александра? Да она умерла в девяносто восьмом. Вы кто будете?
У Веры закружилась голова.
— Мой муж… Саша… он приезжал сюда каждую пятницу тридцать лет… Он говорил, что ухаживает за матерью…
Платон долго молчал. Потом кивнул в сторону рощи:
— Так пойдёмте. Я вам покажу, к кому он ездил.
Вера дрожащими ногами шла за стариком по травяной тропинке. Они вышли на поляну, посреди которой стоял аккуратный деревянный домик. Возле крыльца — клумбы, скамья, на столике — облупившаяся кружка. А дальше — качели… детские.
— Он построил это всё. Своими руками. Каждую пятницу приезжал. Сам. Всегда один.
— Но зачем? — еле выговорила Вера.
— Не знаю, дочка. Он никому не говорил. Только иногда садился тут… — Платон указал на скамью. — И часами смотрел на лес. Молча. И часто плакал.
Вера села на те самые качели. Ветер качнул их чуть-чуть. На перекладине было вырезано: «Прости меня, Маринка». Её сердце застучало сильнее.
Вера сидела на качелях, которые едва слышно скрипели на ветру. В вырезанных словах было что-то болезненно личное. Как будто это не к кому-то абстрактному, а к ней — к Вере — был обращён этот крик из прошлого.
— Вы знали Маринку? — спросила она, чувствуя, как от волнения немеют пальцы.
Дед Платон тяжело вздохнул, присел на пенёк, достал из кармана старую кисетную трубку и молча поковырялся в ней.
— Маринка… Была тут девчонка одна. Жила с бабкой, мать спилась, отца не знала. Сашка как раз после армии приехал сюда — к матери на лето. Ну и как это бывает — молодой, горячий. Они с Мариной по уши. А ей шестнадцать только стукнуло. А он — двадцать три.
Вера слушала, боясь дышать. Сердце колотилось — будто у нее украли целую жизнь.
— Потом она забеременела. Сашка рвался жениться, а его мать — Александра Ларионова — как узнала, в крик: «Никуда ты не поедешь! Шлюха эта деревенская! Всё тебе жизнь испортит!» Скандал был страшный… И Сашку обратно в город увезли. Он тогда у матери на полном содержании был. А Маринку тут же бабка к себе в дом заперла, стыдно, мол. Никто толком не знал, родила ли она… потом бабка умерла… Маринку увезли в психоневрологический.
— В интернат? — пересохшим голосом переспросила Вера.
— Ну. Она и раньше странная была… молчаливая. А тут — после всего — совсем ушла в себя. Говорят, девочку родила. Молча. Имени не назвала, на руки не брала. Так и увезли ребёнка сразу. Маринку — в больницу. Потом сгорел тот дом. Сгорела и та жизнь. Саша потом и начал строить этот домик.
Вера обвела взглядом маленький деревянный дом. Скромный, но ухоженный. Каждая дощечка, каждая клумба — часть любви, которую он не смог пережить.
— А вы не знаете, что стало с девочкой?
Платон покачал головой.
— Никто не знает. Ни имени, ни даты. Всё молчком было. Маринка в последний раз сюда пришла лет десять назад. Босая. Стояла у качелей, держалась за верёвку. Потом ушла. А через месяц сказали, что умерла. И Сашка приезжать стал чаще. Иногда с цветами. Иногда с конвертами. Всё один.
Вера встала. Подошла к крыльцу, потрогала облупившуюся кружку. Пахло липой и чем-то ещё — тоской, словно сам воздух пропитался воспоминаниями.
—
Вечером она не поехала домой. Осталась у Платона, переночевала на старенькой кровати под скрипучим потолком. А утром снова пошла к домику.
На этот раз зашла внутрь.
Всё было аккуратно, чисто. Маленький столик, старый диван, стул с резной спинкой. На стене — фотографии. Несколько чёрно-белых: мать Александра, он сам — молодой, с гитарой, и… ещё одно фото. На нём — девочка лет четырёх. Вера никогда её не видела.
Снимок был пожелтевший, чуть оборванный по краю. На обороте: «Марии. Если вдруг найдёшь… Прости».
Сердце Веры подскочило к горлу. Она опустилась на табурет и зарыдала.
Флешбэк. Год 1987.
— Саша, ты уверен, что это любовь? Она ведь девчонка…
— Мама, я не могу иначе. Я буду с ней. У нас будет ребёнок.
— Не будет! — кричала Александра Ларионова, хлопая по столу. — Я не отдала тебя на войну, чтобы ты потом всю жизнь с этой… бог знает кем! Ты — инженер, ты учёный будешь! А не крестьянин в глине!
Саша сжал кулаки.
— Я люблю её, мама. И я не позволю тебе решать за меня.
— Поздно. Я уже всё уладила. Ты едешь со мной. Завтра. Вера — хорошая девушка. Из семьи преподавателей. Станет тебе женой. А эту забудь.
Он ушёл из дома, захлопнув дверь. Нашёл Маринку у реки. Она сидела, ноги в воде, волосы растрёпаны, в руках — письмо.
— Я уеду, Саша. Мне нельзя оставаться.
— Я с тобой.
— Ты не сможешь.
— Маринка, я…
Она прижала палец к его губам.
— Прощай, Саша. Прости меня.
—
Настоящее время.
Вера смотрела на старое фото, потом на надпись: «Марии. Если вдруг найдёшь… Прости».
Её ладонь дрожала. Она не знала, что делать. Она не знала, как жить с этим.
Вернувшись домой, она села за письменный стол мужа. Перебирала бумаги, письма, чеки. И вдруг — нашла.
Папка с надписью: «М.»
В ней — квитанции о переводах. На женское имя — Мария Климова, интернат в Рязанской области, позже — частный колледж в Москве. Последний перевод — полгода назад. Тысяча рублей. В графе «Назначение» — «на книги».
Квитанции были аккуратно сложены, датированы. Начало — 2005 год. Девочке на тот момент должно было быть около 18.
На дне папки — письмо. Неотправленное.
“Мария.
Ты не знаешь, кто я. И, может, никогда не узнаешь. Но каждую пятницу я был рядом. Строил дом, вешал качели, сажал цветы. Это всё — тебе. Я не смог быть рядом, когда ты родилась. Я не смог спасти твою мать. Я был трусом. Но я старался. Пусть хоть так — издалека. Прости меня. Я не ищу прощения. Я только хочу, чтобы ты знала: ты была любима. С самого начала. И навсегда.
Папа.”
Вера долго смотрела на письмо. Потом достала конверт и вложила в него и письмо, и фотографию, и копию одной из квитанций. Адрес — тот самый интернат. Вдруг?
Она отправила его на следующее утро.
Прошло две недели. Вера молчала. Никому не рассказывала. Никому не говорила. Только сидела на кухне и смотрела в окно.
На двадцать первый день пришло письмо. Ровный женский почерк.
“Здравствуйте.
Я долго не решалась писать. Когда я прочла ваше письмо, я плакала. Я много лет искала хоть какой-то след. Имя, фамилию. Всё было стерто. И вот — вы.
Да, меня зовут Мария. Я не уверена, что вы — действительно кто-то из тех, кто знает. Но фотография… И письмо… Я чувствую. Где этот дом? Я хочу приехать.
Мария.”
Через неделю Мария приехала. Высокая, стройная, с зелёными глазами и темными волосами, как у Веры в молодости. На ней — простое платье и легкий шарф. Она держала письмо в руках.
— Вы Вера?
— Да. Заходи… Доченька.
Она сказала это почти шепотом. И Мария зарыдала.
Они поехали вместе в ту деревню. Зашли в домик, где всё оставалось нетронутым.
Мария трогала стены, смотрела на качели, на надпись — «Прости меня, Маринка» — и плакала.
— Это… правда?
— Он любил вас. Всю свою жизнь.
—
Потом они вместе посеяли цветы у дома. И Мария взяла старую кружку.
— Пусть будет у меня. На память.
А Вера взяла её за руку.
— У тебя теперь есть семья. Пусть и странная. Но настоящая.
—
Прошло два года. Домик в деревне отремонтировали. Каждое лето Мария приезжала туда со своими детьми — у неё теперь было двое — и всегда говорила им:
— Тут жил мой отец. Он строил этот дом, чтобы однажды я нашла дорогу к нему. Он не был идеальным. Но он любил меня.
А Вера сидела на качелях и гладила внучку по голове.
— Папа всегда говорил: «Каждая пятница — моя исповедь». А теперь у нас каждая пятница — день памяти и любви.
И ветер раскачивал качели. Скрип старых верёвок больше не звучал печально. Он звучал как прощение.
«Каждая пятница — моя исповедь». Часть 2.
Прошло ещё три месяца.
Мария теперь звонила Вере почти каждый день. Иногда — просто узнать, как погода в Подмосковье, иногда — чтобы прочесть вслух строчку из книги, которую она открыла наугад и почему-то сразу подумала о нём. Об отце. Об Александре.
Однажды, ранним утром, Вера услышала знакомое постукивание в окно. Как в былые времена, когда Саша, забыв ключи, стучал костяшками в стекло.
Она вздрогнула, распахнула шторы.
На крыльце стояла Мария. С рюкзаком. С осенними листьями в волосах. С глазами, полными чего-то тревожного.
— Прости, что без звонка. Я… мне нужно кое-что рассказать.
Вера пустила её в дом. Налила чай. Запах липы, мёда и чего-то ещё — чего-то из детства — наполнил кухню.
— Он ведь… — Мария взяла чашку в ладони. — Он ведь меня видел?
— Не поняла?
— Там, в документах. В письме. Он писал, что любил. Что помнил. А я… у меня остались воспоминания. Как будто обрывки. Он однажды сидел на скамейке у детского дома. Я была маленькая. Мне было лет пять. Он дал мне игрушку. Медвежонка. И ушёл. Ничего не сказал. Только глаза… я их запомнила на всю жизнь.
Вера замерла. Затем кивнула.
— Он приезжал туда. Раз в год. Просто смотреть. Иногда — приносил подарки. Я нашла записи. В том ящике, где письма. Он не имел права вас забрать. Ему отказали. Тогда — когда мать Марии… твоя мама, Маринка — умерла в интернате. Она была признана недееспособной, а Саше отказали из-за судимости. Но он продолжал… хоть издалека.
Мария уставилась в чашку. Слёзы скатились по щекам.
— Я думала, что никому не нужна. Всю жизнь. А теперь не знаю, как простить себя — за эти мысли. И его — за молчание.
Вера подошла. Обняла.
— Мы все не знали. Мы все молчали. Я была рядом с ним тридцать лет — и тоже ничего не понимала. Он жил двойной жизнью. Но, может, именно так он мог хоть что-то сохранить.
—
Несколько дней Мария жила у Веры. Они ходили по дому, убирали, пересматривали старые альбомы. Вера рассказала, каким был Саша в юности. Как он играл на гитаре, как разрисовал ей втайне стену спальни стихами Есенина. Как однажды ночью разбудил её, просто чтобы сказать: «Я счастлив». А она тогда подумала: вот и вся жизнь. Простая, тихая, но своя.
— У тебя были дети? — осторожно спросила Мария однажды вечером.
— Нет. — Вера посмотрела на окно, за которым опадали листья. — Не получилось. А потом как-то уже не было попыток. Саша всегда говорил: «Значит, будет так». Он никогда не обвинял. А я… я, может, и надеялась до последнего.
Мария накрыла её ладонь своей.
— Теперь я твоя. По-настоящему. Без «если».
Вера не ответила — не могла. Только заплакала.
—
На следующий день Мария вдруг сказала:
— Я хочу найти бабушку. Ту, что кричала на него. Ту, что увезла. Ту, что запретила. Мать Александра.
— Она умерла давно. В 2000-м. Я сама хоронила. Мы жили вместе почти десять лет — с трудом, но без войн. Она никогда не говорила о Марине. Запрещала любые разговоры о прошлом. Только однажды, в бреду, сказала: «Я спасла его. От проклятия».
— Проклятие? — Мария нахмурилась.
— С её слов, в роду по материнской линии у женщин были… странности. Молчание, суициды, закрытость. Она считала, что Марина — продолжение этой цепи. Поэтому и боялась за Сашу. Но… мне кажется, это всё была просто больная стариковская обида.
Мария посмотрела в окно. Потом достала с полки старую записную книжку.
— Тут был адрес. Какой-то «дом отдыха». Думаешь, стоит туда съездить?
— Поезжай. Иногда прошлое отпускает только тогда, когда ты возвращаешься к началу.
—
Дом отдыха «Лесная быль» оказался полуразрушенным санаторием с облупленными стенами. Но сторож — седой мужик с вечно окурком в зубах — нашёл в журнале имя.
— Александра Ларионова? Ну да, была тут. После инсульта. Полгода жила. Странная такая. Всё просила, чтобы ей газету привозили, мол, ищет кого-то. Да, вот — её вещи до сих пор на складе. Забирайте.
Вера и Мария вскрыли старый сундук уже дома.
Там были выцветшие фотографии, блокнот с записями и… пачка писем. Неотправленных. Адресованные… Марине.
«Я молилась, чтобы ты умерла при родах. Прости. Я боялась, что он выберет тебя, а не свою жизнь. Но теперь вижу — мой страх разрушил всех. Даже тебя».
Вера не могла сдержать дрожи.
Мария взяла письма, зажгла камин. И одно за другим — бросила в огонь.
— Мы не будем передавать проклятие дальше, — прошептала она. — Оно сгорит здесь.
—
Весной в старом доме в деревне снова распустились тюльпаны. На качелях качались двое детей — дочка и сын Марии. А рядом — она сама, и Вера, с пряжей и крючком, как когда-то Александра.
— Мы будем приезжать сюда каждую пятницу. Просто так. Без нужды. Без тайны. Чтобы вспоминать и прощать.
Однажды дети нашли под половицей маленькую жестяную коробку. В ней была последняя записка от Саши. Почерк дрожал, буквы плясали.
«Если вы это читаете — значит, всё закончилось. И началось. Я не был хорошим отцом. Не был храбрым. Но я любил. И домик этот — не наказание. Это мой рай. Пусть он будет ваш. Постройте жизнь, где не будет лжи. Где каждую пятницу не нужно прятаться».
—
Через год домик превратился в арт-пространство. Сюда приезжали дети из интернатов. Писали стихи. Вешали свои фотографии на стены. Играли на тех самых качелях.
А на входе висела табличка:
«Каждая пятница — моя исповедь». Александр Ларионов.
И кто бы ни читал эти слова, замирал на секунду. А потом улыбался — и шёл дальше. В этот новый мир. Без тайн. Без страха. Только с памятью — и с любовью.