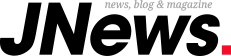— Скажи своей жене перечислить всё сразу. Разве невестка не должна заботиться о свекрови? — услышала я, неожиданно вернувшись домой.
Настя уже не просто лежала, а буквально вросла в диван. Телефон в руке, палец механически листает новостную ленту, а в голове – абсолютная пустота. Покой – вещь редкая. И, как обычно, длился он ровно до того момента, как хлопнула дверь.
Григорий влетел, будто ему за спиной ледяная лавина катится. Щеки пунцовые, нос блестит, куртка наполовину расстёгнута, ботинки всё ещё на ногах.
— Холодина такая, что у меня уши до сих пор не понимают, что они при мне, — буркнул он, не снимая обуви, и уселся рядом. — Слушай, у меня новость. Мама решилась на переезд.
Настя чуть приподнялась, даже телефон выключила — серьёзно, раз он с таким лицом.
— В смысле — переезд? — голос ровный, но глаза уже ощутимо сузились.
— Продала свою и купила двушку в доме напротив! — радостно заявил муж, словно речь шла о покупке мороженого, а не об объявлении семейного апокалипсиса. — Теперь будем чаще видеться!
Да чтоб тебя… — мысленно выругалась Настя. Три года брака, и за это время она выработала стойкий иммунитет к визитам свекрови: терпеть, кивать, улыбаться, а потом неделю пить валерьянку. И тут — сюрприз. Теперь эта женщина будет рядом. Всегда. Прямо через дорогу.
— Когда это она успела провернуть? — спросила, пытаясь удержаться в рамках приличия.
— Да вот, буквально пару дней назад. Риелтор нормальный попался, не обманул, всё чётко оформил, — Григорий развалился на диване, будто именно он и был тем самым риелтором.
— Подожди, — Настя свела брови, щёлкнув логикой. — У неё ведь была однушка, да? А тут цены огого. С чего вдруг на двушку хватило?
— Ну… накопления какие-то были. И от отца осталось. Какая разница, Настя? Главное — она теперь рядом. Удобно же!
— Угу. Очень удобно, — сухо кивнула она, чувствуя, как внутри всё медленно закипает. Чайник — и тот меньше гудит в подобные моменты.
— Надо будет отпуск взять, помочь ей с переездом. Я завтра на работе скажу, возьму неделю. И ты давай тоже, а?
— Возьми две, — устало бросила Настя. — Там не отпуск нужен, а психотерапевт с пылесосом. Причём, желательно, в одном лице.
На следующий день они поехали в логово… простите, в новую квартиру Анжелы Викторовны.
Свекровь ждала у подъезда с лицом, будто её пригласили на вручение «Оскара».
Анжела Викторовна стояла у нового подъезда как на параде: строгий твидовый плащ, лакированная сумка, губы с яркой помадой, взгляд — холоднее февральского ветра. За спиной — две коробки, у ног — чемодан. И ни намёка на благодарность или радость от встречи.
— Ну наконец-то. Я уже успела подумать, что вы решили меня бросить тут одну. В мои-то годы! — с упрёком произнесла она, глядя сначала на сына, потом — на Настю.
— Пробки, мам. Город стоит, — попытался оправдаться Григорий, хватаясь за коробки. Настя молча подняла чемодан — не из желания помочь, а чтобы быстрее покончить с этим фарсом.
Подъезд был серый, унылый, пахло краской и пылью. Новый дом, но ощущение, будто он уже устал от жизни.
— Ага, вот она, — Анжела Викторовна торжественно открыла дверь. Квартира действительно была неплохая: просторная кухня, две комнаты, окна на обе стороны. Идеальный наблюдательный пункт, подумала Настя с мрачной иронией. Идеальный для контроля.
— Сюда шкаф, сюда кровать. Нет, подождите! Кровать лучше сюда. Нет, я передумала! — свекровь уже командовала, как бригадир на стройке. Григорий носился из комнаты в комнату, Настя стояла у окна, молча наблюдая, как их с мужем дом — их единственное пространство свободы — вот-вот будет оккупировано извне.
Прошло три часа. Григорий ушёл покупать лампочки и кронштейны, а женщины остались вдвоём.
— Чай? — предложила Настя через силу.
— Если найдёшь нормальные кружки. Я свои пока не распаковала, а эти… — она критически глянула на две дешёвые, выданные застройщиком.
— Я как-нибудь переживу.
Чайник закипал на чужой плите, а внутри Насти — закипала другая буря. Эта квартира была не просто квартирой. Это была угроза. Она чувствовала, как мир, в котором они с Григорием строили свою семейную территорию, начал сжиматься.
— У вас, кстати, свет на балконе мигает. Передай Грише — пусть чинит, — вдруг сказала свекровь, отпивая чай. — Я вчера ночью смотрела.
Настя напряглась.
— Ночью?
— Ага. Я ведь окна проверяла. С вашего видно хорошо. Ты в красной майке была. Красный тебе не идёт, кстати.
Настя поставила чашку. Громко.
— Вы вчера уже переехали?
— Ну… решила проверить, как тут с видом. Зашла в ночь, что такого?
— Без ключей? Без вещей?
— Да ну тебя, ты всё усложняешь.
Настя шла домой одна — Григорий остался доделывать сборку кровати. Она молчала весь путь, в голове звучала одна фраза: «Я вчера ночью смотрела».
Смотрела на что? На кого? Почему молчала, что уже была в квартире?
Что-то не сходилось. И это “что-то” будоражило неприятно.
На следующий день Настя пришла с работы и услышала голоса. Два. В их квартире.
— Ага, ты вот здесь не убираешь, пыль лежит. Я же вижу! — раздавался голос свекрови.
— Мам, хватит. Это наша с Настей зона, не надо сюда лезть, — парировал Григорий, но не слишком уверенно.
— Она не следит за домом, Гриша. У неё всё небрежно. Я вчера смотрела — бельё целый день в машинке. Мокрое!
Настя вошла в комнату. Медленно. Не хлопая дверью. Просто вошла.
— Простите, что не спросила разрешения жить в собственном доме, — бросила холодно.
Свекровь обернулась.
— Я просто хотела помочь.
— Как и ночью, когда следили за окнами?
Григорий напрягся.
— Что значит — следили?
— Мама была в новой квартире ещё до официального переезда. Ночью. И смотрела на нас.
Анжела Викторовна смутилась. Но быстро взяла себя в руки.
— Не «смотрела». Проверяла. Я же мать. Мне не безразлично, как живёт мой сын.
— А мне — как живу я, — отрезала Настя. — А теперь он — не ваш мальчик. Он муж. Мой муж.
Григорий встал между ними.
— Хватит! Обе! Вы что, с ума сошли?
Тишина.
— Я… — Настя вдруг почувствовала, как подступает ком к горлу. — Я не могу жить в доме, где за мной наблюдают. Я устала. Это не семья. Это наблюдательный пункт.
Она вышла в коридор, накинула пальто, хлопнула дверью и спустилась вниз. Прошла мимо дома напротив. Подняла глаза. Третье окно слева. Там она. В тени. Стоит. Смотрит.
Вечером Григорий пришёл домой поздно.
— Она хотела как лучше, — устало начал он.
— Я знаю, — Настя посмотрела на него. — Но у неё свое «лучше». А у меня — своё.
— Может, ты уедешь к подруге? На пару дней? Немного отдышаться.
Она молчала. Это прозвучало как «Ты лишняя. Здесь».
— Ты просишь меня уйти? — тихо.
— Я прошу дать время. Чтобы всё успокоилось.
Настя ушла. Не к подруге. В гостиницу. Просто, чтобы подумать.
Прошёл день. Другой. На третий раздался звонок.
Григорий.
— Настя… вернись. Пожалуйста. Мне нужна ты. Не мама. Ты.
— Что случилось?
— Мама… она попала в больницу.
В приёмной пахло антисептиком. Анжела Викторовна лежала на койке, в сознании, но бледная.
— Давление. И… сердце. Я перенервничала.
Настя подошла.
— Я… не желала вам зла.
— А я… — свекровь отвела взгляд. — Я боялась. Боялась остаться одна. Боялась, что он уйдёт от меня совсем. Я его растила одна. Всё отдала. А теперь… чужая женщина забрала его.
— Я не забирала. Я люблю его. По-другому. Не лучше. Не хуже.
Молчание.
Потом, через минуту:
— Я видела, как вы смотрели друг на друга. Я поняла, что вы настоящие. Просто я… не сразу научилась отпускать.
Прошло две недели. Свекровь выздоровела. Настя вернулась домой.
Они встретились у подъезда.
— Пойдём пить чай, — сказала Анжела Викторовна. — У меня есть новость.
За столом, с вареньем и лимоном, она выложила:
— Я решила сдать квартиру. И уехать. В Сочи. К подруге. На зиму.
Настя удивилась.
— Правда?
— Правда. У вас тут своя жизнь. А я… научусь жить своей. Я всё поняла. Спасибо тебе.
И в глазах у неё впервые не было упрёка. Только усталость. И какая-то… светлая грусть.
Через неделю на балконе больше никто не стоял.
Третье окно слева было тёмным.
А в их доме снова пахло кофе и ванильными свечами.
Настя листала фотоальбом, когда Григорий подошёл сзади и обнял.
— Спасибо, что не ушла навсегда.
— Я чуть не ушла.
— Я знаю. Но ты — моя.
Она улыбнулась.
— А ещё я — свекровь будущего. Только я буду другой.
И оба засмеялись. С облегчением.
И с любовью.
“Двушка напротив” — Часть 3: Тишина и голос
Прошло полгода.
Весна в городе начиналась не с распускающихся почек, а с грязного снега и беспощадных луж. Но в квартире Насти и Григория всё расцветало: на кухонной полке стояли цветущие кактусы, в воздухе витал аромат корицы, а в ванной появились две зубные щётки и тест с двумя полосками.
Настя стояла перед зеркалом, касаясь живота.
— Привет, малыш, — прошептала. — Надеюсь, ты полюбишь этот мир чуть больше, чем я его в своё время.
Григорий, как и положено растерянному отцу, метался между покупкой витаминов, изучением форумов и мыслями о том, как достать машину побольше. Он стал нежным, внимательным, как будто боялся сломать Настю взглядом.
— Я теперь даже дышу тише, чтобы не мешать тебе, — однажды пошутил он, кладя ладонь ей на живот.
Настя смеялась. Но в глазах был отблеск тревоги.
А потом, в мае, раздался звонок.
Анжела Викторовна.
— Я… не знаю, почему звоню, — начала она сбивчиво. — Просто… как вы?
— Хорошо, — Настя сделала паузу. — Мы ждём ребёнка.
— Ребёнка… — в голосе свекрови дрогнуло что-то. — Значит, я стану бабушкой?
— Да.
— Можно… можно я приеду? Не к вам. Просто увидеть. На расстоянии.
Настя долго молчала.
— Приезжайте.
Анжела Викторовна появилась через три дня. Постаревшая, похудевшая. Уже без блеска в глазах, без помады. Только мягкий платок и тёплый взгляд.
Она не перешагнула порог.
— Не хочу мешать. Только скажите… вы счастливы?
Настя посмотрела на Григория. Он стоял в дверях с пакетом фруктов.
— Да, — твёрдо сказала она. — Мы счастливы.
— Тогда я поеду. Мне достаточно.
Настя догнала её у лифта.
— Подождите.
Свекровь остановилась.
— Мы будем рады, если вы останетесь. Снять квартиру где-то рядом. Но без наблюдений. Без упрёков. Без войны.
— Я старая собака, Настя.
— Люди меняются. Иногда — в самый нужный момент.
Анжела Викторовна улыбнулась.
— Тогда… может, попьём чаю?
На кухне снова закипал чайник.
Но теперь никто не шептал про красные майки и бельё в машинке. Вместо этого — рассказы из детства Григория, воспоминания, лёгкая ностальгия.
— Он в пять лет съел целую пачку зубной пасты, — смеялась свекровь. — Сказал, что она «вкуснее каши».
Настя засмеялась. И вдруг ощутила… тепло. Неподдельное.
Когда родилась Маша — девочка с огромными глазами и хмурым взглядом новорождённого философа — всё было иначе. Анжела Викторовна приехала в роддом с супом и вязаными пинетками.
— Это от бабушки, — с гордостью сказала она, передавая их через медсестру.
Настя смотрела на пинетки. И вдруг… заплакала.
— Ты чего? — испугался Григорий.
— Это просто… они такие тёплые. И я вдруг поняла: у Маши будет не только мы. У неё будет ещё одна женщина, которая будет за неё бороться. Пусть и по-своему.
Спустя месяц Настя открыла окно и посмотрела на дом напротив.
Третье окно слева. В нём теперь жила молодая пара. Смех, музыка, сушёное бельё.
Старая тень ушла.
Осталась только память. И урок. Что даже самые тяжёлые женщины могут стать бабушками.
И даже самые упрямые — родными.
“Двушка напротив” — Часть 4: Мать”
Всё началось с письма.
Настя сидела у кроватки Маши и наблюдала, как дочка шевелит крошечными пальчиками во сне. На комоде — кружка с остывшим чаем, в телефоне — сотни непрочитанных сообщений, среди которых одно выделялось.
Отправитель: мама
«Настя. Я знаю, что ты теперь мать. Поздравляю.
Хочу увидеть тебя. И внучку.
Понимаю, ты не ждала этого письма.
Но, может быть, мы всё-таки попробуем?»
Она не видела мать пятнадцать лет.
После того, как отец ушёл, мать пила. Сильно. Хлопали двери, трещали стены, Настя пряталась под кроватью. Потом — детдом. Потом — тётя, которая забрала её, вырвав буквально с боем. Потом — жизнь, в которой о матери лучше было не вспоминать.
Но теперь… она сама была мамой.
Настя целый вечер ходила по квартире кругами.
Потом достала с верхней полки старую коробку. Письма. Квитанции. Открытки. Одно письмо — смятое, с запахом старого табака — мать писала ей в 17 лет. Тогда она не ответила.
Но теперь было по-другому.
Она набрала номер.
— Алло? — голос хриплый, старый.
— Это Настя.
Молчание.
— Я… не думала, что ты ответишь, — прошептала женщина на другом конце.
— У меня дочь, — просто сказала Настя. — Я не знаю, зачем ты хочешь встретиться, но…
— Я хочу посмотреть в глаза своей внуке. И сказать тебе то, что не сказала тогда.
Встреча состоялась в парке.
Весна пахла мокрой травой, сиренью и чем-то тревожным. Настя сидела на лавке с Машей в коляске. Подошла женщина с лицом, в котором ещё угадывались знакомые черты: брови Насти, форма губ, но взгляд — потухший.
— Ты красивая, — сказала мать, опускаясь на лавку.
— Я всегда была красивой. Даже когда ты не замечала, — ответила Настя. Без злобы. Просто факт.
— Я знаю, — мать отвернулась. — Мне нужно было лечиться. А я — пила. И всё рушила. Я видела тебя на выпускном — стояла за деревом. Ты тогда смеялась, такая сильная… и такая чужая.
Настя молчала.
— Я не прошу простить. Просто… можно я иногда буду приходить? Не к тебе. К Маше. Приносить книжки. Пинетки. Сидеть рядом, когда ты занята.
— А если она спросит, кто ты?
— Скажи, что я женщина, которая очень хотела бы быть бабушкой. Если она разрешит.
Когда Настя вернулась домой, Григорий сразу всё понял по глазам.
— Ты плакала?
— Я прощала.
— Получилось?
— Нет. Но… я попробовала.
Прошло три месяца.
Мать приходила в парк по субботам. Сидела рядом, рассказывала Маше сказки. Иногда Настя присаживалась рядом. Иногда — просто наблюдала издалека.
Потом они пошли в кафе. Один раз. Второй.
Однажды мать достала старую фотографию.
— Это мы, тебе два года. Я тогда ещё верила, что у меня получится быть хорошей мамой.
— Ты была, — вдруг сказала Настя. — Недолго, но была.
— Прости, — шепнула женщина.
— А ты… себя простила?
— Пока нет. Но Машка — это шанс. Хоть маленький.
Анжела Викторовна узнала об этом случайно. Пришла, застала их всех на кухне.
— О, у нас гости, — сказала она резко.
Настя встала между ними.
— Мам, познакомься. Это моя мама.
Свекровь прищурилась, потом кивнула.
— Ага. Хорошо. Кто чай будет?
Вечером Настя лежала рядом с дочкой. И думала.
Жизнь — как эти старые чашки в шкафу. У каждой — трещинка. Но если налить горячего чая — трещины не мешают, а даже придают форму. Историю. Тепло.
— А ведь когда-то я думала, что не прощу, — прошептала она Григорию.
— А теперь?
— А теперь я хочу научить Машу прощать. И выбирать. Себя. И тех, кто рядом.
“Двушка напротив” — Часть 5: Письмо с того света”
Утро началось с писем. Настоящих, бумажных. В наш цифровой век это уже само по себе выглядело как странность, почти чудо.
Настя держала в руках серый конверт, запечатанный небрежно, с кривым почерком, будто писавший спешил… или давно отвык от ручки.
На конверте стояло её имя. Старое. Не Настя Петрова, как в паспорте после брака, а Настя Карцева. Девичья. Та, что до всего — до Маши, до Григория, до этой квартиры с сумасшедшей Анжелой Викторовной за стенкой.
Она разрезала край ножом для бумаги, будто вскрывала рану. И начала читать.
*«Настя.
Я не знаю, читаешь ли ты это. Не знаю даже, жива ли ты.
Но если да — то знай: я был рядом. Всегда.Мне сказали, что твоя мать сказала тебе, будто я погиб. Это неправда.
Я ушёл, потому что не мог больше терпеть её истерики, крики, бутылки. Я просил забрать тебя, но она сказала: “Хочешь — уходи один”. И я ушёл.Не потому, что не любил тебя. А потому, что не знал, как вытащить тебя без суда и крови.
Я писал. Один раз. Она вернула письмо. Сжала мою фотографию и сказала, что ты не должна меня помнить.Я живу в Уфе. Работаю сторожем. Старый, седой, но всё ещё с тобой в мыслях.
Если хочешь — приезжай.
Если не хочешь — я пойму.Твой отец.
Николай Карцев.»*
Настя сидела на кухне с этим письмом, как с куском прошлой жизни. Григорий молча поставил перед ней чашку кофе.
— Это что?
— Мой отец, — еле слышно прошептала она.
— Но он же…
— А вот и нет.
Григорий взял письмо. Прочитал. Положил обратно.
— Ты хочешь поехать?
Настя не ответила.
В Уфу она ехала одна. Григорий остался с Машей. Мать — та, что «новообретённая» — обещала помогать, даже предложила остаться у них. И впервые за долгое время Настя почувствовала, что у неё есть семья. По-настоящему.
Дорога была долгой. Поезд — медленный, в окно — белые берёзы, разбитые станции, забытые платформы. Всё это напоминало детство: длинные летние поездки, гудки в ночи, и отца, читающего газету напротив.
Он ждал её у вокзала. В старом пальто, с аккуратно причесанной сединой, с букетом полевых цветов.
— Ты не изменилась, — сказал он, улыбаясь.
— А ты — почти не постарел.
Это была ложь. Он постарел. Но глаза — те самые.
Они молчали, пока шли до дома. Смотрели друг на друга украдкой. Она — в его неровной походке, в складках у глаз, в трещинах на ладонях — видела всю жизнь, которой он жил без неё. А он — в её взгляде, осанке, словах — всё, что потерял.
Его комната была маленькая. Кровать, шкаф, кипа газет, самодельный стол. На стене — детский рисунок. Цветы, солнце и надпись: «Папе от Насти».
— Я его с собой взял, — сказал он, заметив её взгляд. — Она выбросила, когда ты уехала в интернат. Я нашёл в мусорке.
Настя опустилась на табурет.
— Почему ты не боролся? Почему не забрал меня?
— Потому что боялся. Я думал: лучше ты вырастешь без меня, чем увидишь меня в драке с её любовниками. Я был… слабый.
— А теперь?
— Теперь я старый. Но хочу умереть, зная, что ты меня простила.
Прощение не пришло в тот день. Не на следующий.
Оно пришло в час ночи, когда она услышала, как отец, думая, что она спит, говорит сам с собой.
— Господи, спасибо, что дала мне ещё один день с ней. Я не заслужил, но ты всё равно дал.
Утром она обняла его.
— Я не обещаю, что буду часто писать. Но я приеду. И привезу Машу.
Он заплакал.
В поезде Настя смотрела в окно.
Прошлое — как сумка с дыркой. Из неё высыпаются обиды, воспоминания, вина. Но если её зашить — можно снова носить. Не как прежде. Но уже без страха, что из неё всё ускользнёт.
А впереди — были сирень, весна и… возвращение.