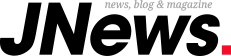— Слышу пикантные стоны за стенкой и говорю, как бы с намёком:
— Сосед жену жарит!
Муж невозмутимо:
— Молодец сосед. Умеет радовать женщину.
Он даже не отвёл взгляда от книги. Как будто обсуждаем, сколько яиц осталось в холодильнике. Я сглотнула. Неловко.
— Ты, значит, за него порадовался? — спросила я, откладывая ноут.
— А что? Лучше уж сосед, чем чтобы она по ночам в подушку рыдала, как ты.
Я не знала, обидеться ли. Или испугаться. Что это было? Шутка? Упрёк? Попытка вывести меня на разговор?
— Я в подушку не рыдаю, — пробормотала я.
— Ну да, ты у нас гордая.
Он перелистнул страницу. Мне показалось, что он нарочно зашуршал ею громче, чем надо. Я смотрела на потолок и вспоминала, когда в последний раз он обнимал меня просто так. Не по инерции. Не потому что «положено».
Прошло пять лет с нашей свадьбы. Вроде бы срок небольшой. Но были моменты, когда я чувствовала себя… чужой. Даже в собственной постели.
Мы познакомились в электричке — он держал томик Пелевина, я — чашку кофе и куртку, на которой растёкся тот самый кофе. Он подал мне салфетку и предложил свою куртку, пока моя не высохнет. Через два месяца мы жили вместе. Через полгода — расписались. Казалось, что всё так легко: совпали шутки, ритмы, взгляды.
Тогда мне казалось, что мы никогда не станем этими людьми, у которых разговоры по расписанию, а секс — как день рождения бабушки: раз в году, да и то без энтузиазма.
Стук за стенкой стал громче. Женщина стонала, не скрывая удовольствия. Муж соседа работал охранником, редко бывал дома. А жена у него — такая себе, с челкой и ногтями, будто у кассирши из 2007-го. Кто бы мог подумать…
— Ну вот, — я не выдержала. — А у нас только книжки.
— А что ты хочешь? — спокойно спросил он.
— Я не знаю… Наверное, чтобы между нами было хоть что-то. Не только коммунальные платежи и обязанности.
Он положил книгу на тумбочку и посмотрел на меня.
— А ты пробовала сказать об этом раньше?
— А ты пробовал обнять меня просто так? Или спросить, как прошёл мой день?
Он встал. В трусах и майке подошёл к окну. Курить он бросил, но иногда выходил на балкон, будто от чего-то спасался. От разговора, от меня… от нас?
— Понимаешь, — сказал он наконец, — я не могу соревноваться с соседом. Ни в стонах, ни в эффектах. У нас был реальный быт. А не кино.
Я усмехнулась.
— А я просила соревнований? Я просто хочу, чтобы мы были живыми. А не как два пыльных кактуса в углу спальни.
Он молчал. Мне стало страшно. Не от его молчания. А от мысли, что дальше — пустота.
Вспомнилось, как год назад я предложила поехать в Питер на пару дней. Просто вдвоём. Как раньше. Он ответил:
— У меня аврал, давай как-нибудь потом.
«Потом» так и не случилось.
А когда он в июле сломал ногу и лежал с гипсом, я была рядом. Ухаживала, готовила, помогала мыться… Он ни разу не сказал спасибо. Тогда я подумала: «Любовь — это терпение». Сейчас я думаю: «А не была ли я просто удобной сиделкой?»
— Может, разведёмся? — вдруг сказал он, глядя в окно.
— Что?!
— Ну а что? Если тебе плохо со мной, если ты хочешь жить, а я — просто существую…
У меня перехватило дыхание.
— Ты правда хочешь, чтобы я ушла?
— Я не хочу. Но я тоже устал делать вид, что у нас всё хорошо.
Он снова лёг в кровать, отвернулся к стене. А за ней — стоны, страсть, чужая жизнь, которая казалась мне теперь неприлично яркой.
Я лежала и думала: а может, и правда… Может, любовь заканчивается так. Без криков. Без измен. Без сцен. Просто молчанием. Холодом в середине лета.
Но потом вспомнила, как он однажды зашёл ко мне на работу с термосом, когда я забыла пообедать. Вспомнила, как держал меня за руку, когда умерла мама. Как сам втихаря покупал мне конфеты, которые я люблю, и клал их под подушку. Он не стал хуже. Мы просто… потеряли друг друга.
Утро. Он ушёл на работу, я осталась дома. Посмотрела на пустую кровать и ощутила… нет, не одиночество. Боль. Но не как от удара. А как от растяжения связок: тянет, но есть шанс восстановиться.
Я достала альбом с нашими фото. Смотрела на нас — молодых, живых, влюблённых. И поняла: если сейчас не начать говорить, не начать действовать — всё сгинет.
Вечером я накрыла на стол. Поставила свечи. Сделала его любимую лазанью. Он вошёл, удивлённо посмотрел.
— У нас праздник?
— Почти. У нас день попытки.
Мы сели. Молча ели. Потом я вздохнула.
— Послушай, я не хочу тебя терять.
— Я тоже. Просто не знаю, с чего начать.
— Давай честно. Давай будем говорить, даже если страшно. Даже если больно. Давай заново учиться быть мужем и женой. Не только соседями по квартире.
Он взял мою руку. Ту самую, которую не держал давно.
— Договорились. Но предупреждаю: я теперь не тот парень из электрички.
— А я — не та девушка с кофе. Но мы ещё можем стать чем-то новым.
Он улыбнулся. Первый раз за долгое время.
Ночью мы снова лежали в постели. Без ноутов и книг. Просто рядом. За стенкой опять стоны — те же, громкие. Мы рассмеялись. И он сказал:
— Сосед опять молодец. Но знаешь что? У нас будет лучше. Не громче. А — глубже.
Я прижалась к нему. И впервые за долгое время не боялась наступления тишины.
Прошла неделя. Мы держались.
Было трудно. О, как же трудно. Молчание, ставшее привычным, так и норовило вернуться. Привычки — как вросшие корни: выдрать можно, но с болью.
Он стал чаще задерживаться на работе. Я ловила себя на том, что опять сижу с ноутом в кровати. Хоть и пообещали — никаких экранов по вечерам. Обещания влюблённых легче всего даются ночью, но их труднее всего выполнять днём.
— Ты снова с компьютером, — сказал он однажды, войдя в спальню.
— А ты снова пришёл позже восьми. Мы договаривались ужинать вместе.
Он снял куртку, медленно, будто обдумывал, стоит ли говорить вслух то, что крутится в голове.
— Я просто устал. Я не сбегаю. Правда.
Я закрыла ноут. Поднялась. Подошла к нему.
— Я тоже устала. Но усталость — не повод отдаляться. Мы договаривались бороться. А получается, будто каждый поодиночке.
Он вздохнул. Обнял меня. Неуверенно. Как будто проверял: не оттолкну ли. Я не оттолкнула. Напротив — прижалась щекой к его плечу. Мы стояли так долго. И это было куда интимнее любого секса.
Через два дня он предложил:
— А давай сходим к семейному психологу.
Я едва не расплакалась. Не потому, что не верила — а потому что он сам это предложил. Это был жест. Настоящий.
Психолога звали Ольга Витальевна. В возрасте, спокойная, с мягким голосом и взглядом, будто видевшим слишком многое. Она выслушивала молча. Не перебивала. Только кивала. А потом задала вопрос:
— Что вы чувствуете, когда смотрите друг на друга?
Я молчала. Он тоже. Потом я сказала:
— Чувствую вину. Что всё запустила.
Он:
— Чувствую обиду. За то, что она будто бы жила рядом, но не со мной.
— А вы пробовали говорить об этом? — спросила она.
— Мы боялись, — почти хором ответили мы.
И засмеялись. Грустно. Но искренне.
Смешно — два взрослых человека боятся сказать любимому: «Мне плохо». Боятся признаться в скуке, в боли, в усталости. Потому что страшно разрушить то, что уже трещит по швам.
Мы ходили к Ольге Витальевне три недели. Она дала нам упражнения. Смотреть друг на друга по минуте в тишине. Писать письма — настоящие, бумажные — и оставлять под подушкой.
Первое письмо от него было коротким:
«Я боюсь тебя потерять. Но ещё больше — потерять себя в этом браке. Спасибо, что не сдаёшься».
Я плакала. Потом написала в ответ:
«Я не сдалась — потому что верю в нас. Но прошу: не молчи. Твоя тишина страшнее любой ссоры».
Однажды вечером, возвращаясь домой с работы, я встретила ту самую соседку. Ту, что «шумная».
Она курила у подъезда, в халате и с недокрашенной головой.
— Здравствуйте, — сказала она и улыбнулась. — Это мы вас по ночам развлекаем, да?
Я покраснела.
— Ну… да. Слышно бывает.
— Так и надо, — она пожала плечами. — Мы с Санькой пять лет как женаты, а до сих пор друг без друга не можем. Иногда, знаете, только секс и спасает. Он у нас — как анальгин. От всего.
Я рассмеялась.
— А мы вот в терапию пошли.
— В какую?
— К психологу. Брак спасаем.
— Вот это вы заморочились, — удивилась она. — А у нас всё проще: поругались, потрахались, попили чаю — и снова любовь.
Я шла домой, думая о её словах. У каждого — свои рецепты. Кто-то лечится чаем и сексом, кто-то — письмами и терапией. Главное — хотеть лечиться. А не притворяться здоровым.
Прошло два месяца. Мы снова поехали в Питер — тот самый «несостоявшийся» отпуск. Только теперь он сам всё организовал: билеты, гостиницу, даже экскурсию по крышам.
На крыше он взял меня за руку.
— Слушай, — сказал он, глядя на город, — а может, начнём всё с начала?
— С электрички?
— С кофе. С твоей куртки. С моей салфетки.
Я улыбнулась.
— Хорошо. Только теперь, если я снова запачкаюсь, ты не просто дашь мне салфетку — а будешь вытирать сам.
— Договорились.
Он наклонился и поцеловал меня. Не как муж. Не как сосед. Как человек, влюблённый в женщину. А женщина эта — я.
Вернувшись домой, мы устроили ужин у себя. Без свечей, без пафоса. Просто вкусный суп и хлеб с маслом. И снова стоны за стенкой.
Он кивнул:
— Наш сосед стабилен.
— А мы — развиваемся, — подмигнула я.
Он потянулся к гитаре. Давно не играл. Но я помнила: когда-то он пел мне песни по вечерам. О любви, о лете, о глупом счастье.
Он начал играть. Голос немного дрожал — то ли от волнения, то ли от отсутствия практики. Но это было прекрасно.
Я сидела на диване, слушала, и вдруг поняла — я не потеряла его. Он — здесь. Он со мной. Он остался.
Утром он оставил на подушке записку:
«Я люблю тебя. Даже если молчу. Даже если устаю. Просто знай: я — с тобой. И буду. Всегда».
Я взяла её, приложила к груди — и тихо, почти не слышно, прошептала:
— И я тебя. Даже если бурчу. Даже если боюсь.
Потом выглянула в окно. У подъезда стояла соседка, целовалась с мужем. И я подумала: да, у нас по-другому. Не громко. Не шумно. Но глубоко.
И — по-настоящему.
Часть 3. Через год
— Ты помнишь, что сегодня за день? — спросила я, наливая кофе.
Он с трудом открыл глаза, посмотрел на меня сквозь утреннюю лень и прищурился.
— Вторник?
— Год, как мы начали всё с начала. С Питера. С крыш. С поцелуя.
Он улыбнулся.
— Ага. И с той электрички, где ты испачкалась кофе.
— Это была судьба, — сказала я и села рядом. — И теперь судьба ждёт нас… в торговом центре. Я записалась на просмотр колясок.
Он поперхнулся кофе.
— То есть… ты серьёзно?
Я посмотрела на него внимательно. Он знал, что я хотела. Мы говорили об этом в шутку, в полуснах, в надежде. Но я ждала, когда он сам захочет.
— Да. Я готова. Но если ты не готов — я подожду. Только честно.
Он замолчал. Долго смотрел на чашку. Потом встал, подошёл и обнял меня за плечи.
— Я боюсь. Но хочу. Особенно, если это будешь ты — мама моего ребёнка.
Я прижалась к нему. Как раньше. Только теперь между нами было больше, чем страсть или долг. Было доверие. Было «мы».
Три месяца спустя
Соседи по-прежнему радовали ночами. Мы привыкли. Даже как-то полюбили эту часть дома — как странный саундтрек к жизни.
Я стояла в ванной, держала тест в руке.
Две полоски. Я села на край ванны. Ноги дрожали.
Он вернулся поздно. Вошёл в спальню и сразу понял: что-то случилось.
— Ты плакала?
— Я… беременна.
Он не сказал ничего. Просто подошёл и сел рядом. Его руки были горячими и тяжёлыми. Он обнял меня. Сильно. Молча.
— Скажи хоть что-нибудь…
— Спасибо. Ты сделала меня самым счастливым трусом на свете.
Беременность шла сложно. Токсикоз. Усталость. Эмоции.
Но он был рядом. Готовил бульоны. Терпел капризы. Однажды ночью я расплакалась из-за того, что он купил не те печенья. Он не спорил. Просто оделся и пошёл в магазин. В два часа ночи.
На кассе его спросили:
— У жены беременность?
Он только кивнул. Продавщица улыбнулась:
— У меня был такой же. Теперь у нас трое детей. Терпите. Потом будете скучать.
—
Восьмой месяц.
Мы возвращались от врача. Всё хорошо. Мальчик.
— Как назовём? — спросил он.
— Давай как в детстве хотела — Лев.
Он засмеялся.
— Ну, значит, я теперь официально папа льва.
Мы шли мимо дома, где жили молодые пары, шумные, страстные, на взводе. Где кто-то кричал в окно, кто-то хлопал дверью, кто-то выяснял, кто кому должен.
— Помнишь, как мы? — сказала я.
Он остановился, посмотрел на меня.
— Нет. Мы никогда так не кричали. Мы просто молчали — и это было страшнее.
— Больше не будем?
— Ни за что.
Он наклонился и поцеловал меня в живот.
— Привет, Левушка. Не бойся. У нас теперь всё по-другому. Мы выучили, как надо.
Роды были тяжёлыми.
Он держал меня за руку всё время. Даже когда врачи просили выйти. Он отказался.
— Она мой человек. Я тут, где и должен быть.
Когда я закричала, сжав его пальцы до белых костяшек, он прошептал:
— Смотри на меня. Я с тобой. Дыши. Я люблю тебя. Мы вместе.
И когда раздался первый крик Левушки, мы оба расплакались. Как дети.
Он держал сына на руках. Улыбался и повторял:
— Это наш мальчик. Наш.
Через месяц после выписки.
Ночь. Мы не спим. Лёва орёт — маленький, но упрямый. Я вся в молоке и усталости. Он — с синяками под глазами.
Соседи за стенкой молчат. Тоже, наверное, не до страсти.
Я смотрю на мужа. Он сидит с Лёвушкой на руках, укачивает, шепчет что-то. А потом, обернувшись ко мне, говорит:
— Помнишь, как ты тогда сказала: «Сосед жену жарит»?
Я улыбаюсь.
— А ты невозмутимо: «Ишь ты, молодец».
Он смеётся.
— А теперь ты мой сосед. Только в соседней кроватке — наш сын. И шумы — не страсть, а колики.
Я смотрю на него. Того самого, кто однажды почти исчез из моей жизни. Кто отдалился, стал чужим. А теперь — отец моего ребёнка. Мой друг. Мой спутник.
Утро.
Он делает нам бутерброды. Лёвушка спит, утомлённый ночным концертом.
— Слушай, — говорит он, — у меня идея.
— Какая?
— Через год. На наш день Питера. Снова туда. Вдвоём. Без пелёнок. С бабушкой и няней в помощь. А пока — держим оборону. Ты готова?
— Готова, — улыбаюсь я. — Мы выжили в кризисе, переживём и подгузники.
И вдруг — крик за стенкой. Настоящий. Страстный. Как прежде.
Мы переглядываемся.
— Соседи? — спрашивает он.
Я киваю.
— Живы, чёрт побери.
Он протягивает кружку чая и улыбается:
— А мы?
Я смотрю на него. На себя. На тихо сопящего малыша.
— А мы — любим. Пусть и тише. Но глубже.