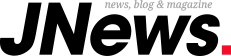Я была на 8 месяце беременности, в трамвае. Вошла женщина с младенцем и большоій сумкой. Она выглядела измученной. Никто не двигался, поэтому я уступила ей свое место. Она странно на меня посмотрела. Когда она вышла, она подсунула что-то мокрое в мою сумку. Мне стало плохо, когда я вытащила это – эта женщина дала мне…
…эта женщина дала мне… записку, испачканную кровью.
Я стояла посреди кухни, вытащив её из сумки дрожащими пальцами. Ребёнок в животе толкнулся, будто почувствовал мою тревогу.
Записка была на промокшей от пота и крови бумаге, аккуратно сложена вчетверо. Я развернула её.
«Она следит за мной. Если я не успею – отдай это в полицию. Моя дочь – Аня, 3 месяца. Она у меня на руках. Не верь никому. Она знает, как выглядят хорошие люди. Прости…»
Подписи не было.
Я замерла. Стены квартиры будто поплыли. Ребёнок толкнулся снова, и я инстинктивно прижала ладонь к животу.
— Спокойно, малыш… — прошептала я. — Всё хорошо…
Но всё было нехорошо.
Я села за стол, достала телефон и начала вспоминать ту женщину. Она вошла в трамвай где-то на остановке у старого рынка. Худая, в пальто, которое явно ей велико, с большой спортивной сумкой через плечо. Младенец в слинге — девочка, пухленькая, молчаливая, с белой шапочкой. Женщина оглядела вагон — ни одна душа не пошевелилась. Тогда я встала.
Она не поблагодарила. Только долго смотрела, пристально, почти изучающе. Я даже почувствовала лёгкий страх.
Когда она вышла — это было где-то у кинотеатра «Октябрь» — я не заметила, как она подошла к моей сумке. Лишь дома, спустя полчаса, я обнаружила эту записку.
Я поднялась и, хромая от спазма внизу живота, направилась к окну. Ночь медленно наползала на город. Где-то выл ветер. Мне казалось, что теперь всё — иначе. Как будто в мой мир вошло нечто опасное, чужое, тёмное.
— Ты что, с ума сошла? — воскликнула моя подруга Катя, когда я показала ей записку. — Ты беременна, ты должна о себе думать, а не влезать в… в какие-то… квесты!
— Там ребёнок, Катя. Младенец. Она явно просила о помощи.
— Если ты думаешь, что полицейским не плевать… — она замолчала, потом вздохнула. — Хотя… может, стоит им показать. Вдруг правда что-то серьёзное.
Я всё же пошла в участок. Полицейский, мужчина лет сорока, по фамилии Комаров, принял меня без особой охоты. Осмотрел записку, хмыкнул.
— Странно. Но доказательств мало. Имя ребёнка — и всё? У нас таких «сигналов» десятки каждый месяц.
— Там кровь…
— Может быть и кетчуп. Если женщина действительно в беде, пусть сама придёт.
Я вышла на улицу подавленная. Комаров не поверил ни слову. Более того, я почувствовала, как он сомневался в моей вменяемости.
Прошла неделя.
Я старалась жить, как обычно. Подготавливала вещи в роддом, гладила ползунки, пила тёплое молоко на ночь. Но записка не выходила из головы.
Каждый вечер я вспоминала глаза той женщины. Безумные? Или — измученные? Или просто просящие?
Я начала ходить на ту же остановку у рынка, где она вошла в трамвай. Около лавки с овощами я однажды увидела её. Ту самую женщину.
Она стояла у стены, всё в том же пальто, но теперь без ребёнка.
Я подошла.
— Простите… это вы были тогда… в трамвае?
Она обернулась. Глаза её расширились. Лицо побледнело.
— Отойди. — Голос был хриплым, как у больного.
— Подождите! Где ваш ребёнок? Вы просили…
Она схватила меня за руку.
— Ты не должна была её читать. Она теперь знает.
— Кто?
Вдруг женщина отпустила меня, обернулась, и побежала прочь. Буквально растворилась в толпе.
Я стояла ошеломлённая. Она боялась. Не меня — кого-то другого.
Через два дня мне позвонили.
— Это… вы были в трамвае неделю назад? — женский голос, дрожащий, испуганный.
— Да. А вы?
— Я нашла ваш номер… это не важно. Я знаю ту женщину. Её зовут Инга. Её ищет один человек. Очень плохой. Он уже нашёл отца девочки. Они жили у него на квартире. Потом он исчез, а она… Она боится, что за ней придут.
— Кто?
— Вы не поймёте. Он — не человек. Он может быть кем угодно. Даже полицейским.
Связь оборвалась.
Я перестала спать.
Мне чудились тени под окнами. Скрип в подъезде пугал до паники. Однажды я проснулась оттого, что кто-то царапал дверь. Когда я подбежала, никого не было.
Однажды, около дома, я увидела Комарова — того самого полицейского. Он разговаривал с кем-то по телефону, затем посмотрел прямо на моё окно. Его взгляд был ледяным.
Я начала вести дневник. Всё записывала: даты, время, встречи, имена. В случае, если…
Если что?
Если со мной что-то случится?
За день до родов я снова увидела Ингу. На этот раз — у вокзала. Она сидела на лавке и смотрела на проходящих людей, будто кого-то высматривала.
Я подошла медленно.
— Где девочка?
— С чужими. Там безопаснее. — Она говорила шёпотом. — Ты хорошая. Ты ведь была готова встать. Ради меня. Ради ребёнка. Она это запомнила.
— Кто она?
— Она. Та, что внутри. Та, что охотится. Та, что забирает детей.
Я вздрогнула.
— Послушайте… вам нужна помощь. Есть организации, приюты…
— Они её не остановят. — Инга встала. — Но, может быть… ты.
— Я?
Инга коснулась моего живота.
— У тебя тоже девочка.
Я отпрянула.
— Откуда вы знаете?
— Она уже с ней. Она чувствует, кто будет бороться. Кто родит Силу.
Я больше не выдержала. Вернулась домой и вызвала скорую. Давление скакнуло, схватки начались внезапно. Врачи отвезли меня в роддом, и наутро я родила девочку — Зою. Она была крепкой, розовой, с чёрной родинкой под глазом. И — всегда смотрела в сторону. Словно кто-то стоял за моей спиной.
Прошёл месяц.
Я не видела Ингу. Полицейский Комаров… погиб. Упал под поезд. Об этом писали в новостях. Странно, но никто из коллег не дал комментария. Его будто и не было.
Катя предложила переехать к ней на время. Я согласилась.
В одну из ночей Зоя проснулась и начала громко смеяться. Я подошла к кроватке — и увидела женщину у окна. В пальто. Смотрела прямо на ребёнка.
Я закричала. Она исчезла.
Катя сказала, что мне надо отдохнуть. Что это гормоны. Что роды повлияли. Но я помню. Помню запах её одежды. Холодный, как ветер с вокзала.
В мае мне пришло письмо. Без подписи.
«Ты сильнее, чем думаешь. Она выбрала тебя не случайно. Теперь ты — Хранительница. Береги Зою. Если она начнёт говорить во сне — слушай. Не перебивай. Она не с тобой разговаривает. А с Ней.»
Я долго сидела с письмом в руке. Ребёнок спал, а в глубине её снов, казалось, кто-то пел. Очень тихо. Очень старинно. И пугающе нежно.
Теперь я знаю: та женщина в трамвае не просила о помощи для себя.
Она искала приёмника. Ту, кто сможет продолжить её путь. Кто не боится отдать своё место в трамвае. Кто встанет — даже когда все сидят.
Теперь я слышу Её. Она говорит шёпотом, когда за окном ветер. Она шепчет истории о других детях. Об исчезающих младенцах. Об Инге, которую уже не найдут.
А Зоя… смотрит всё в ту же сторону. В сторону окна.
И улыбается.
Глава II. Когда Зоя заговорила
Прошло четыре года.
Зоя росла необычным ребёнком. Она рано начала ходить, говорить, и уже к двум годам безошибочно различала эмоции взрослых — даже те, что мы тщательно скрывали. Её взгляд часто цеплял людей так, что они невольно отводили глаза. А иногда — замирали, словно загипнотизированные.
Я не рассказывала никому о письме, об Инге, о Комарове. Даже Кате. В какой-то момент она уехала в Испанию, вышла замуж, и наша связь ослабла. Я осталась одна — только я и Зоя.
Я старалась воспитывать её как обычного ребёнка. Детский сад, прогулки, рисование. Но порой… происходило нечто, что заставляло меня вновь и вновь возвращаться к той записке, к тому взгляду в трамвае.
Однажды воспитательница из сада подошла ко мне у калитки:
— Зоя сказала странную вещь сегодня.
— Что именно?
— Она… стояла у окна и сказала: «Вон та тётя умрёт через три дня. У неё сердце, как стекло». — Женщина покраснела. — Простите, может, она это в мультике слышала…
— А кто это была? — спросила я, затаив дыхание.
— Новая нянечка. Молодая. Она… — воспитательница понизила голос. — Сегодня утром её забрали на скорой. Сердечный приступ. Она в реанимации.
Я с трудом выдавила из себя:
— Зоя могла… ошибиться.
— Может быть, — отозвалась воспитательница. — Только она потом нарисовала сердце. В нём были трещины. И написано: «3 дня».
С тех пор всё начало меняться.
Она не говорила со мной, как обычный ребёнок. Часто молчала подолгу, просто смотрела куда-то в пустоту. Иногда — пела на непонятном языке. Я записывала на диктофон, отдавала филологам. Один профессор из института сказал:
— Это похоже на язык древней финно-угорской группы. Очень старый. Так могли говорить жрицы в северных племенах.
— Откуда она могла это знать?
Он пожал плечами:
— Может, слышала где-то… хотя это маловероятно. Вы уверены, что ребёнок не подвержен психозу?
Однажды ночью я проснулась от звука шагов. В коридоре горел слабый ночник. Я вышла — Зоя стояла у окна.
— Что ты делаешь?
Она повернулась ко мне.
— Мама, она снова пришла. Смотрела на нас изнутри стекла.
— Кто?
— Та, у которой нет имени. Та, что теперь за мной.
Я подошла, прижала её к себе. Она холодная, как лёд.
— Всё хорошо, малышка. Я с тобой.
— Пока да, — прошептала она. — Пока она смотрит только издали.
Когда Зое исполнилось пять, она начала рисовать одно и то же лицо. Женщина в пальто, с расплывчатыми чертами, без глаз. На рисунках глаза были как две дыры, из которых текли чёрные струи.
— Кто это, Зоя?
— Ты её знаешь, мама. Она была в трамвае.
Я не дышала.
— Откуда ты знаешь про трамвай?
— Ты помнишь. А я вижу, что ты помнишь.
Я снова начала вести дневник. Ночью мне снились странные сны. В одном из них я стояла на мосту, держа на руках Зою. С другой стороны шла Инга — с младенцем. Она что-то кричала, но я не слышала слов. Потом река под мостом запылала огнём, и из воды вынырнула женщина без глаз.
Я проснулась в слезах.
На утро Зоя сказала:
— У тебя был плохой сон. Она тоже там была. Она теперь приходит и ко мне. Она хочет, чтобы я пошла с ней.
— Ты не пойдёшь.
— Если я не пойду — она придёт за тобой.
Я поехала в монастырь. Не знаю, зачем. Может, искала защиту. Разговорилась с монахиней. Рассказала не всё, но намекнула.
Она посмотрела на меня устало:
— Бывают дети, которых Господь отмечает особым даром. А бывает, что за ними кто-то ещё следит. С самого начала. И тогда… только вера и любовь могут спасти. Ничего больше.
— А если это уже в ней?
— Тогда её нужно научить не открываться. Не смотреть в ту сторону. Иначе… будет поздно.
Я начала замечать, что Зоя избегает зеркал. Особенно вечером. Иногда закрывала их платком. Я спросила:
— Почему ты так делаешь?
— В зеркале она сильнее. Там — её мир. Там она показывает, кем я стану, если буду слушать.
— А ты слушаешь?
— Иногда.
Я села на пол рядом с ней, взяла за руку.
— Ты — моя дочь. Моя маленькая Зоя. Ты не должна ничего бояться. Я рядом.
Она наклонилась ко мне.
— Мама, ты тоже была особенной. Только ты забыла.
— Что я забыла?
— Ты ведь не просто встала в трамвае. Ты чувствовала.
И в тот момент я поняла — она права.
Я действительно чувствовала, что та женщина была в беде. Я не видела крови, боли, крика. Но во мне — будто кто-то говорил: Встань. Помоги. Спаси.
Я — была отмечена. А теперь — Зоя.
Однажды в нашем доме начались пожары.
Сначала — загорелась проводка в ванной. Потом — розетка на кухне. Один электрик сказал:
— Будто кто-то специально наводит на короткое. Причём — с точностью до миллиметра.
— Это опасно?
— Мало сказать. Кто-то хочет, чтобы вы сгорели.
Я уехала с Зоей в деревню, в дом тётки. На зиму. Она давно умерла, но дом остался — старый, с русской печкой, без интернета. Я надеялась, что там мы будем в безопасности.
Зимой Зоя заболела. Температура под сорок. Она бредила. Кричала ночью:
— Не открывай дверь! Она в лесу! Не открывай!
Я не открывала.
На четвёртую ночь я услышала стук.
Медленный, тяжёлый. Входная дверь дрожала. Я подошла, прижалась к дереву.
Стук повторился.
Зоя закричала из комнаты:
— Мама! Она тут!
Я не открыла.
Наутро — на снегу были следы босых ног. Длинные, как у взрослого мужчины. С острыми пальцами.
Весной я решила вернуться в город.
Зоя поправилась. Но стала тише. Не пела. Не рисовала.
На прощание в деревне она взяла меня за руку и сказала:
— Мама, если я когда-нибудь исчезну — ищи меня у воды. Она любит воду. Там её глаза.
Я запомнила. Записала в дневник. Всё. Даже самые страшные слова.
Сейчас Зое почти шесть.
Недавно она снова начала говорить ночью. Но теперь — не своим голосом.
Голос был взрослым. Хриплым. Иногда — мужским. Иногда — совсем безэмоциональным.
Я записала на диктофон.
Фразы были короткие:
“Я вижу. Я помню. Время пришло. Дитя Света или Дитя Тени?”
“Если ты не выберешь — выберу я.”
Я показывала это священнику. Он молчал. Потом сказал:
— Эта девочка — не просто человек. В ней борются две силы. Но она — не одержима. Она — поле битвы. И кто победит — зависит от вас.
— От меня?
— Только мать способна удержать Свет. Даже если сама стоит в Тени.
Сегодня Зоя проснулась раньше обычного. Села на край кровати. Посмотрела на меня.
— Мама, ты не боишься?
— Чего?
— Что я не останусь Зоей?
Я прижала её к себе.
— Ты — моя дочь. И будешь ею всегда.
Она улыбнулась. Потом сказала:
— Тогда давай пойдём туда, где всё началось.
— Куда?
— В трамвай.
Я вздрогнула.
Но я согласилась.
Завтра мы поедем туда — к старой остановке у рынка. Я не знаю, что произойдёт. Но знаю одно:
В тот день, когда я встала в трамвае, началось нечто большее, чем просто жест доброты.
Я сделала выбор.
А теперь — выбор делает Зоя.
Глава III. Место, где начинается ночь
Мы приехали на ту самую остановку в девять утра.
Солнечный день. Люди спешат с сумками, гремят тележками по асфальту, дети с криками бегают вокруг киосков с фруктами. Казалось бы — обычная жизнь. Но я знала, здесь началось всё.
Зоя стояла рядом в сером пальто. Она не держала меня за руку — просто молча смотрела на трамвайные пути. Они казались прорезями в реальности, как будто через них можно было соскользнуть в другой мир.
— Он придёт? — спросила я.
Зоя кивнула.
— Скоро.
— Кто?
Она посмотрела на меня внимательно, слишком серьёзно для шестилетнего ребёнка.
— Он, кто забрал Ингу. Он, кто теперь хочет меня. Его зовут никто. Потому что его имя нельзя произносить.
— А Инга? Она… знала это?
— Инга была последней, кто бежала. Но её поймали. И она отдала меня тебе, чтобы я могла выбрать другой путь.
Я не могла дышать. Эти слова звучали слишком осознанно. Словно их произносила не Зоя, а кто-то через неё.
— Почему я? Почему она выбрала меня?
— Потому что ты встала.
Мы сели в трамвай. Старый, скрипящий, пахнущий пылью и ржавчиной.
Я обратила внимание: все пассажиры сидели молча. Не листали телефоны. Не разговаривали. Смотрели в окна, будто их заворожили.
Зоя села у окна. Положила руки на колени. И вдруг прошептала:
— Смотри. Сзади.
Я обернулась.
На задней площадке стояла женщина.
Высокая, в длинном пальто. Лица не видно. Она как будто… дрожала. Вибрировала.
Когда я снова моргнула — её не было.
— Ты тоже видела её? — прошептала я.
— Она ждёт остановки. У Комарова.
Я похолодела.
Мы ехали всё дальше и дальше. Дома за окнами становились серее, старее. Вот уже и парк, давно заброшенный, с ржавыми качелями. И здание бывшего роддома, где теперь то ли офисы, то ли склад. Никто точно не знает. Никто туда не ходит.
— Нам выходить, — сказала Зоя.
Мы сошли на пустынной остановке. Никого. Только ветер крутил мусор у ног, да где-то вдалеке скрипела вывеска. Перед нами — парк. За ним — железная калитка, полузаросшая мхом. За калиткой — старая асфальтовая дорожка, уходящая к серому зданию с забитыми окнами.
— Это было здесь?
— Да, — кивнула Зоя. — Именно здесь Инга отдала меня тебе. В тот момент, когда вышла. Она знала, что его тень следует за ней. Она хотела спасти хоть кого-то.
— Почему ты это всё знаешь?
Зоя посмотрела на меня долго. И тихо сказала:
— Потому что я уже жила это. Просто не помнила.
Я не поняла сразу.
— Что ты имеешь в виду?
— Это не первая наша жизнь, мама.
Я застыла.
— В прошлой ты не встала. Прошла мимо. Тогда я исчезла.
Я… не знала, что сказать. Слёзы хлынули внезапно. Страх, вина, ужас — всё разом.
— Значит… это всё повторяется?
— До тех пор, пока кто-то не прервёт круг.
Мы подошли к зданию. Оно словно дышало холодом. Внутри — темнота, даже несмотря на утренний свет. Старая вывеска на двери: Отделение патологии беременности. Закрыто с 2007 года.
— Ты уверена?
— Здесь всё начиналось. Здесь — ворота.
Я толкнула дверь. Она поддалась со скрипом.
Внутри пахло плесенью и сыростью. Штукатурка сыпалась с потолка, повсюду битое стекло, обрывки бумаг, старые койки, проржавевшие шкафы. Но посередине главного коридора — абсолютно чистый круг, как будто кто-то тщательно вымыл это место.
— Здесь он выходил, — сказала Зоя. — Здесь он брал тех, кто боялся.
— Что нужно сделать?
Она повернулась ко мне. И вдруг её голос стал другим. Более взрослым. Твёрдым.
— Ты должна сделать выбор, как тогда.
— Какой?
— Уйти — и позволить мне остаться. Или… остаться — и забрать всё себе.
Я не понимала.
— Забрать что?
— Тьму. Страх. Всю память.
Я начала дрожать.
— И что тогда будет со мной?
— Ты забудешь меня. Ты забудешь всё. Даже своё имя. Но я буду жить — свободной. Просто девочкой.
И в этот момент я увидела себя — стоящую в белой палате. Молодую. Рядом — женщина в тени, протягивающая младенца.
Я уже выбирала. Много раз. Но ни разу — правильно.
Зоя ждала.
Вокруг затихло. Даже ветер замер.
И тогда я сказала:
— Я готова. Я выберу боль. Забвение. Всё. Только живи.
Зоя подошла ко мне. Поцеловала в лоб.
— Ты всё-таки встала, мама. Теперь — правда.
И всё исчезло.
Я очнулась на скамейке у детской площадки. Дети смеялись. Солнце светило в глаза. В руке — книга. Я не помнила, как сюда попала.
Ко мне подбежала девочка.
— Мама! Ты чего? Пошли, я хочу на качели!
Я посмотрела на неё.
Зоя.
Я не знала, кто она.
Но что-то внутри… дрогнуло.
— Хорошо, пойдём, — сказала я. — Только сначала — обниму тебя.
Она прижалась ко мне.
И на миг… мне показалось, что я вспомнила всё.
Но тут же — забыла.
А где-то в пустом здании с забитыми окнами, в старом круге посреди коридора, дрожала чёрная тень. Она больше не могла выйти.
Она ждала слишком долго.
И проиграла.
Потому что одна женщина встала. Не в трамвае. А — перед самой Тьмой.